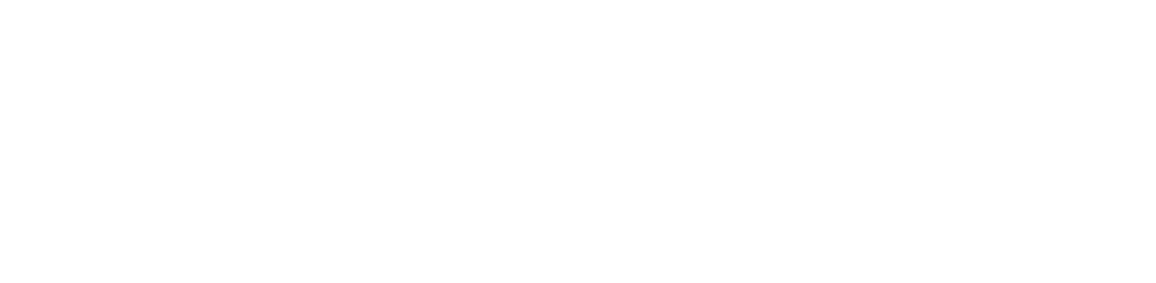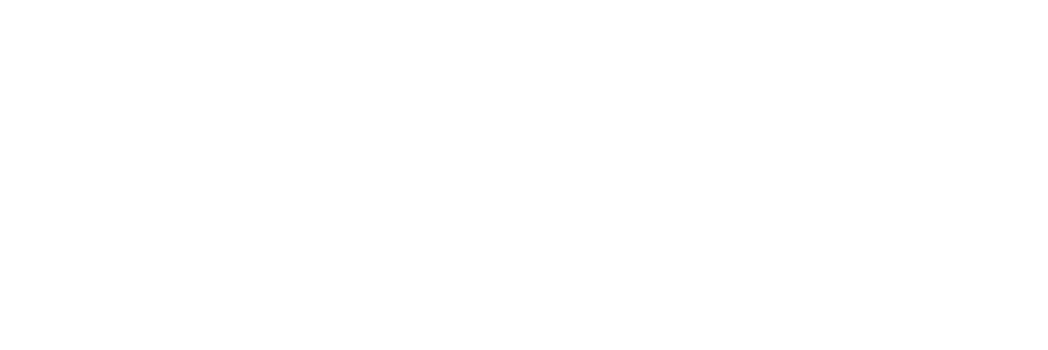Ольга Инишева: «ВсОШ — большой спорт. А где другие лиги?»
Около пятидесяти свердловских школьников в начале января прошли в загородном образовательном центре «Таватуй» курс интенсивной подготовки к всероссийской олимпиаде по физике и олимпиаде имени Дж. Кл. Максвелла. О том, как вырастить успешного олимпиадника, о родительском участии и будущем ВсОШ корреспонденты спросили преподавателя интенсива, заведующую кафедрой физики и астрономии СУНЦ УрФУ, члена Центральной предметно-методической комиссии и члена жюри заключительного этапа ВсОШ по физике Ольгу Викторовну Инишеву.
— Что привлекает вас в работе с подростками? Почему сейчас все празднуют, а вы работаете в образовательном центре «Таватуй»?
— Знаете, если бы мне в детстве сказали, что я буду работать учителем и мне это будет нравиться, я бы, наверное, джинсы свои съела... Вскоре после того, как я начала работать в СУНЦ, мне стало понятно, что физика как наука может прекрасно развиваться и без меня. Но, работая учителем, я приношу результат фактически каждый раз, когда заканчиваю очередной урок. То есть всякий раз после встречи с тобой, после твоего занятия люди меняют свое отношение к жизни, к делу, получают импульс для развития. Тут результат возникает сразу же, он понятен и обозрим. В свое время это озарение произвело на меня сильное впечатление. Потому и сегодня я на берегу Таватуя.
— Знаете, если бы мне в детстве сказали, что я буду работать учителем и мне это будет нравиться, я бы, наверное, джинсы свои съела... Вскоре после того, как я начала работать в СУНЦ, мне стало понятно, что физика как наука может прекрасно развиваться и без меня. Но, работая учителем, я приношу результат фактически каждый раз, когда заканчиваю очередной урок. То есть всякий раз после встречи с тобой, после твоего занятия люди меняют свое отношение к жизни, к делу, получают импульс для развития. Тут результат возникает сразу же, он понятен и обозрим. В свое время это озарение произвело на меня сильное впечатление. Потому и сегодня я на берегу Таватуя.
Дети — не железные
— Нужно ли заставлять ребёнка участвовать в олимпиадах?
— Я знаю, что есть родители, которые заставляют своё дитя участвовать во всех олимпиадах подряд. Ребёнок, например, учится в физико-математическом классе. Но он же участвует и в олимпиадах по биологии, географии, английскому, обществознанию и так далее. Возникает вопрос: зачем это родителям? Дети ведь не железные. Обычно в 8-9 классах они уже примерно понимают, чего хотят. В этой ситуации надо оставить ребёнка в покое, дать ему возможность окончательно определиться и поддержать в этом решении. Когда у ребёнка есть поддержка в семье, этот ребёнок глобально растет. Это очень здорово, когда родители ценят своего сына или свою дочь. Но очень часто папа или мама, или же они вместе заставляют ребёнка проживать то, что сами когда-то не сделали. Например, мама всю жизнь хотела быть математиком, а судьба распорядилась таким образом, что она стала юристом. Так вот теперь её любимая дочь просто обязана стать математиком. Она должна поступить в МГУ, потому что этот путь, увы, не прошла её мама. Она должна… Но она не хочет. Она хочет быть биологом, авиаконструктором, учителем... К сожалению, так бывает. Мне кажется, самое главное — уважение и доверие. И это надо просто понимать. Мои представления о том, что такое мама и сын, поменялись, когда моё собственное дитятко ушло в детский садик. Ты его отводишь туда и впервые осознаешь, что с ребёнком будет происходить что-то такое, о чем ты ведать не будешь. Но есть мамы, которые даже когда их ребенку четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать и больше лет, не понимают, что его нужно просто отпустить. Это другой человек, и он имеет право быть тем, кем хочет. В олимпиадах, по-моему, это очень важный уровень принятия такой истины.
— Есть ли типичные черты характера, объединяющие успешных участников олимпиадного движения?
— Все они совершенно разные. Но у всех есть стремление. Это самое главное объединяющее начало. Очень часто произносят словосочетание «одарённые дети». Я понятия не имею, что такое одарённый ребёнок. И такие слова не использую. Предположим, из миллиона человек вы отобрали примерно 7% одарённых людей. Спустя какое-то время снова делаете выборку и опять получаете из оставшихся ребят те же 7%. Вопрос - куда делись оставшиеся 93%? Их же когда-то отнесли к разряду «одарëнных». Поэтому история, связанная с одарённостью, для меня вообще непонятна. Мне больше нравится история «ребёнок мотивирован» или «ребёнок, который хочет». Такой ребёнок, да ещё при наличии рядом нормального учителя, да при адекватной поддержке родителей — это вообще великая сила.
— Я знаю, что есть родители, которые заставляют своё дитя участвовать во всех олимпиадах подряд. Ребёнок, например, учится в физико-математическом классе. Но он же участвует и в олимпиадах по биологии, географии, английскому, обществознанию и так далее. Возникает вопрос: зачем это родителям? Дети ведь не железные. Обычно в 8-9 классах они уже примерно понимают, чего хотят. В этой ситуации надо оставить ребёнка в покое, дать ему возможность окончательно определиться и поддержать в этом решении. Когда у ребёнка есть поддержка в семье, этот ребёнок глобально растет. Это очень здорово, когда родители ценят своего сына или свою дочь. Но очень часто папа или мама, или же они вместе заставляют ребёнка проживать то, что сами когда-то не сделали. Например, мама всю жизнь хотела быть математиком, а судьба распорядилась таким образом, что она стала юристом. Так вот теперь её любимая дочь просто обязана стать математиком. Она должна поступить в МГУ, потому что этот путь, увы, не прошла её мама. Она должна… Но она не хочет. Она хочет быть биологом, авиаконструктором, учителем... К сожалению, так бывает. Мне кажется, самое главное — уважение и доверие. И это надо просто понимать. Мои представления о том, что такое мама и сын, поменялись, когда моё собственное дитятко ушло в детский садик. Ты его отводишь туда и впервые осознаешь, что с ребёнком будет происходить что-то такое, о чем ты ведать не будешь. Но есть мамы, которые даже когда их ребенку четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать и больше лет, не понимают, что его нужно просто отпустить. Это другой человек, и он имеет право быть тем, кем хочет. В олимпиадах, по-моему, это очень важный уровень принятия такой истины.
— Есть ли типичные черты характера, объединяющие успешных участников олимпиадного движения?
— Все они совершенно разные. Но у всех есть стремление. Это самое главное объединяющее начало. Очень часто произносят словосочетание «одарённые дети». Я понятия не имею, что такое одарённый ребёнок. И такие слова не использую. Предположим, из миллиона человек вы отобрали примерно 7% одарённых людей. Спустя какое-то время снова делаете выборку и опять получаете из оставшихся ребят те же 7%. Вопрос - куда делись оставшиеся 93%? Их же когда-то отнесли к разряду «одарëнных». Поэтому история, связанная с одарённостью, для меня вообще непонятна. Мне больше нравится история «ребёнок мотивирован» или «ребёнок, который хочет». Такой ребёнок, да ещё при наличии рядом нормального учителя, да при адекватной поддержке родителей — это вообще великая сила.
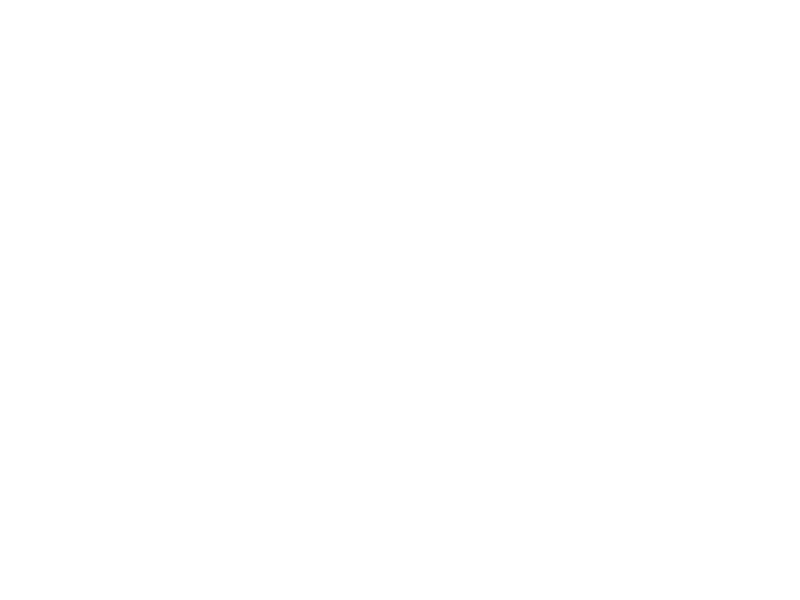
Судьбоносные встречи
— Что, исходя из вашего опыта, является основным мотиватором для школьника участвовать в олимпиадах?
— На каком-то этапе ребёнок либо встречает, либо не встречает учителя, который может повести его за собой и хорошо мотивировать. Если эта встреча состоялась, то всё будет хорошо. Дальше включается уже и помощь родителей, поддержка с их стороны. У ребёнка возникает интерес, а следом и желание работать.
— Для того, чтобы выиграть олимпиаду, нужно знать всё, или существует удача?
— Основная масса людей, которые успешно участвуют в олимпиадах, умеет всё. В удачу я не верю. Это то же самое, что верить в волшебство. Ко мне ни разу в жизни не прилетал волшебник на голубом вертолете. Я не готова верить в волшебство, потому что ни у кого нет на подоконнике парковки для таких вертолетов. Волшебники вообще не летают.
— Какие проблемы мешают олимпиадникам полностью раскрыть свой потенциал?
— На первое место надо поставить психологическую составляющую — это непонимание того, что ученик может сделать на сегодняшний день. До того как я сама стала членом центральной предметно-методической комиссии, я искренне была убеждена, что все люди, которые там работают, настоящие небожители. У ребёнка происходит примерно то же самое. Они думают, что призёры заключительного этапа — это вообще высший пилотаж. На самом деле это совершенно нормальные сверстники. Вопрос просто в том, что нужно встретить хорошего учителя и получить необходимый объём материалов, проделать определëнный объем работы. На мой взгляд, главная проблема — это отсутствие профессиональных тренеров. Тех, которые действительно умеют готовить детей к олимпиадам.
— С какими чувствами вы воспринимаете неудачное выступление ваших учеников на олимпиаде?
Неудачные выступления бывали, и не раз. Однажды я подарила ребёнку, выступившему не самым лучшим образом, настольную, но достаточно тяжёлую гирю. На ней было написано: «Каждая тренировка делает тебя сильнее». Поэтому ответ на вопрос, что будем делать, если неудачно выступим, очевиден: будем работать дальше. Понятно, что проанализируем ошибки, разберём, ругаться не будем, но поймем, что надо делать дальше. Либо поймём, что это не то направление. Тогда надо всё скорректировать и уйти в другую сферу. Это тоже нормальное решение. Итог: не получилось сейчас, работаем дальше.
— На каком-то этапе ребёнок либо встречает, либо не встречает учителя, который может повести его за собой и хорошо мотивировать. Если эта встреча состоялась, то всё будет хорошо. Дальше включается уже и помощь родителей, поддержка с их стороны. У ребёнка возникает интерес, а следом и желание работать.
— Для того, чтобы выиграть олимпиаду, нужно знать всё, или существует удача?
— Основная масса людей, которые успешно участвуют в олимпиадах, умеет всё. В удачу я не верю. Это то же самое, что верить в волшебство. Ко мне ни разу в жизни не прилетал волшебник на голубом вертолете. Я не готова верить в волшебство, потому что ни у кого нет на подоконнике парковки для таких вертолетов. Волшебники вообще не летают.
— Какие проблемы мешают олимпиадникам полностью раскрыть свой потенциал?
— На первое место надо поставить психологическую составляющую — это непонимание того, что ученик может сделать на сегодняшний день. До того как я сама стала членом центральной предметно-методической комиссии, я искренне была убеждена, что все люди, которые там работают, настоящие небожители. У ребёнка происходит примерно то же самое. Они думают, что призёры заключительного этапа — это вообще высший пилотаж. На самом деле это совершенно нормальные сверстники. Вопрос просто в том, что нужно встретить хорошего учителя и получить необходимый объём материалов, проделать определëнный объем работы. На мой взгляд, главная проблема — это отсутствие профессиональных тренеров. Тех, которые действительно умеют готовить детей к олимпиадам.
— С какими чувствами вы воспринимаете неудачное выступление ваших учеников на олимпиаде?
Неудачные выступления бывали, и не раз. Однажды я подарила ребёнку, выступившему не самым лучшим образом, настольную, но достаточно тяжёлую гирю. На ней было написано: «Каждая тренировка делает тебя сильнее». Поэтому ответ на вопрос, что будем делать, если неудачно выступим, очевиден: будем работать дальше. Понятно, что проанализируем ошибки, разберём, ругаться не будем, но поймем, что надо делать дальше. Либо поймём, что это не то направление. Тогда надо всё скорректировать и уйти в другую сферу. Это тоже нормальное решение. Итог: не получилось сейчас, работаем дальше.
Прозрачность отношения
— Как вы относитесь к использованию гаджетов в процессе обучения?
— Совершенно спокойно. Когда мы в СУНЦе работаем на уроке, у каждого класса есть учебные группы в мессенджерах, и все материалы я скидываю туда. Например, нам надо на уроке решать задачи, и я высылаю их в группу. Телефон у детей работает как задачник, как лист бумаги, на котором распечатаны задачи. Гаджеты позволяют во многом оптимизировать работу, связанную с доступом к заданиям и с проверкой.
— Совершенно спокойно. Когда мы в СУНЦе работаем на уроке, у каждого класса есть учебные группы в мессенджерах, и все материалы я скидываю туда. Например, нам надо на уроке решать задачи, и я высылаю их в группу. Телефон у детей работает как задачник, как лист бумаги, на котором распечатаны задачи. Гаджеты позволяют во многом оптимизировать работу, связанную с доступом к заданиям и с проверкой.
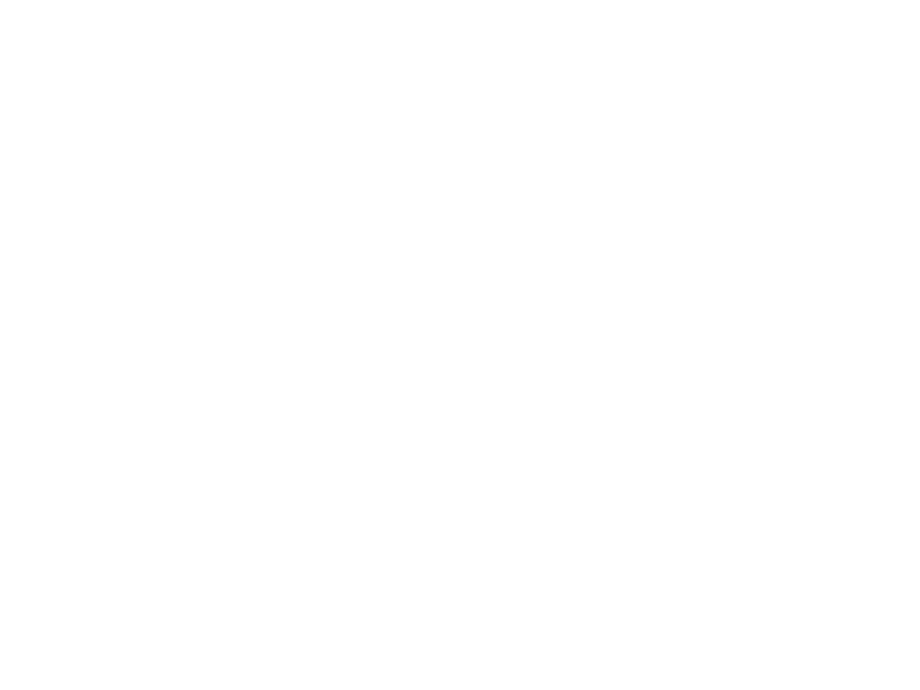
— А допустимо ли использование нейросетей во время обучения?
— На сегодняшний день нейросеть может хорошо выдать какую-то информацию, порисовать картинки. Но задачи, которые умеет решать или предлагать нейросеть, — одношаговые, линейные. В олимпиадной же физике таких задач попросту фактически нет.
— Вы можете отличить работу реального ученика от ответов нейросети?
— Ответы ученика во время разговора — это далеко не нейросеть. Она включается тогда, когда у человека есть какое-то домашнее задание, и он пытается списать, облегчить себе задачу. Уверяю, мне совершенно без разницы, как учащийся делает домашнее задание. Важно, чтобы он пришёл на урок и знал эту тему. И как раз тут ему нейросеть вообще не поможет. Поэтому мне лично совершенно всё равно, пользуется ученик нейросетью или нет. Уровень его собственных знаний я всегда смогу проверить из элементарной беседы о сути дела.
— На сегодняшний день нейросеть может хорошо выдать какую-то информацию, порисовать картинки. Но задачи, которые умеет решать или предлагать нейросеть, — одношаговые, линейные. В олимпиадной же физике таких задач попросту фактически нет.
— Вы можете отличить работу реального ученика от ответов нейросети?
— Ответы ученика во время разговора — это далеко не нейросеть. Она включается тогда, когда у человека есть какое-то домашнее задание, и он пытается списать, облегчить себе задачу. Уверяю, мне совершенно без разницы, как учащийся делает домашнее задание. Важно, чтобы он пришёл на урок и знал эту тему. И как раз тут ему нейросеть вообще не поможет. Поэтому мне лично совершенно всё равно, пользуется ученик нейросетью или нет. Уровень его собственных знаний я всегда смогу проверить из элементарной беседы о сути дела.
Согласно данным
— Какие есть разновидности олимпиад? Каковы их основные отличия?
— Олимпиады, которые существуют в Российской Федерации, делятся на три большие группы. Первая группа — это Всероссийские олимпиады школьников (ВсОШ). Там огромный список предметов. Эти олимпиады дают БВИ. Есть те олимпиады, которые носят аббревиатуру РОШ — российские олимпиады школьников. Это, что называется, перечневые олимпиады. Их проводят вузы, и победа и призёрство на них дает льготы при поступлении. Это другой уровень умений, другие способы подготовки. И есть олимпиады, которые ничего не дают ни в смысле развития, ни в смысле каких-либо плюсов. Нужно научиться быть разборчивым в выборе олимпиад. Не стоит бежать везде.
— Давайте остановимся подробнее на Всероссийской олимпиаде школьников.
— Сегодня это серьёзный спорт. Участвовать здесь могут далеко не все. И олимпиадным тренером может быть далеко не каждый. Тут очевидна аналогия с большим спортом. Все ведь прекрасно понимают, что если, например, идёт отбор в футбольную команду хорошего уровня, то отбирать будут человека по данным и способностям. Есть ведь некие природные данные у ребёнка. У нас же степень тренированности — это уровень умений и знаний. Потом включается желание ребёнка работать. Безусловно, играют роль и способности, заложенные природой.
— Желание работать связано с мотивацией?
— Она определяет многое. Если ребёнок, который сильно хочет развиваться, встретился с тренером, который много умеет и хочет учить, вот тогда и получается успех. В школе физика должна дать ответ на вопрос, почему то или иное явление происходит в жизни. Физика должна развить мозг, потому что физики умеют решать любые задачи. И, кроме того, мы понимаем, что любая задача в зависимости от условий может иметь разные решения, что ничего нельзя принимать на веру. Всё, что тебе говорят, нужно проверять. Это называется критическим мышлением.
— В настоящий момент ситуация складывается так, что растёт количество бюджетных мест, которые занимают олимпиадники. Означает ли это, что отмирает практика ЕГЭ как способ поступления в вуз?
— Очевидно, что нет. Хотя, возможно, мы можем так говорить про гуманитарные предметы. Что же касается физики, то практика поступления в вузы по результатам ЕГЭ никогда не закончится. Уже хотя бы потому, что количество инженеров, которые сегодня нужны Российской Федерации, просто гигантское. Сегодня мы понимаем, что технологии решают всё, и нам они нужны. Поэтому в первую очередь следует говорить не о том, что в вузы должны приходить или не приходить олимпиадники, а о том, что нужно создавать профессиональную инженерную команду высокого уровня в нашей стране, качественно подготовленных инженеров, которые умеют правильно производить сложные расчёты, умеют конструировать и фактически способны создавать новые технологии. А при таких масштабах эти инженеры — далеко не олимпиадники. Это люди, которые сдают ЕГЭ в районе 60−70 баллов, они дальше развиваются в вузе и научены совершенно нормально работать, понимают, что такое ответственность. Они станут инженерами, которые будут строить мосты, здания, танки, самолеты и так далее. Они сегодня и нужны стране. А олимпиадники, на мой взгляд, могут дать лишь малую долю от необходимого количества специалистов.
— Олимпиады, которые существуют в Российской Федерации, делятся на три большие группы. Первая группа — это Всероссийские олимпиады школьников (ВсОШ). Там огромный список предметов. Эти олимпиады дают БВИ. Есть те олимпиады, которые носят аббревиатуру РОШ — российские олимпиады школьников. Это, что называется, перечневые олимпиады. Их проводят вузы, и победа и призёрство на них дает льготы при поступлении. Это другой уровень умений, другие способы подготовки. И есть олимпиады, которые ничего не дают ни в смысле развития, ни в смысле каких-либо плюсов. Нужно научиться быть разборчивым в выборе олимпиад. Не стоит бежать везде.
— Давайте остановимся подробнее на Всероссийской олимпиаде школьников.
— Сегодня это серьёзный спорт. Участвовать здесь могут далеко не все. И олимпиадным тренером может быть далеко не каждый. Тут очевидна аналогия с большим спортом. Все ведь прекрасно понимают, что если, например, идёт отбор в футбольную команду хорошего уровня, то отбирать будут человека по данным и способностям. Есть ведь некие природные данные у ребёнка. У нас же степень тренированности — это уровень умений и знаний. Потом включается желание ребёнка работать. Безусловно, играют роль и способности, заложенные природой.
— Желание работать связано с мотивацией?
— Она определяет многое. Если ребёнок, который сильно хочет развиваться, встретился с тренером, который много умеет и хочет учить, вот тогда и получается успех. В школе физика должна дать ответ на вопрос, почему то или иное явление происходит в жизни. Физика должна развить мозг, потому что физики умеют решать любые задачи. И, кроме того, мы понимаем, что любая задача в зависимости от условий может иметь разные решения, что ничего нельзя принимать на веру. Всё, что тебе говорят, нужно проверять. Это называется критическим мышлением.
— В настоящий момент ситуация складывается так, что растёт количество бюджетных мест, которые занимают олимпиадники. Означает ли это, что отмирает практика ЕГЭ как способ поступления в вуз?
— Очевидно, что нет. Хотя, возможно, мы можем так говорить про гуманитарные предметы. Что же касается физики, то практика поступления в вузы по результатам ЕГЭ никогда не закончится. Уже хотя бы потому, что количество инженеров, которые сегодня нужны Российской Федерации, просто гигантское. Сегодня мы понимаем, что технологии решают всё, и нам они нужны. Поэтому в первую очередь следует говорить не о том, что в вузы должны приходить или не приходить олимпиадники, а о том, что нужно создавать профессиональную инженерную команду высокого уровня в нашей стране, качественно подготовленных инженеров, которые умеют правильно производить сложные расчёты, умеют конструировать и фактически способны создавать новые технологии. А при таких масштабах эти инженеры — далеко не олимпиадники. Это люди, которые сдают ЕГЭ в районе 60−70 баллов, они дальше развиваются в вузе и научены совершенно нормально работать, понимают, что такое ответственность. Они станут инженерами, которые будут строить мосты, здания, танки, самолеты и так далее. Они сегодня и нужны стране. А олимпиадники, на мой взгляд, могут дать лишь малую долю от необходимого количества специалистов.
Вне «игнора»
— Мы знаем, что вы готовите учеников к олимпиадам ВсОШ и олимпиаде им. Дж. Кл. Максвелла. В чем основное отличие этих двух олимпиад?
— До регионального и заключительного этапа ВсОШ доходят только ученики 9, 10, 11 классов. То есть у 7 и 8 классов нет возможности поучаствовать в этих этапах. Центральная предметно-методическая комиссия по физике создала аналог Всероссийской олимпиады школьников по физике и назвала это Всероссийской олимпиадой школьников по физике для учащихся 7−8 классов имени Джеймса Клерка Максвелла. Это привело к тому, что уровень участников заключительного этапа ВсОШ по физике сильно возрос. Сегодня заключительные этапы — это «вынос мозга», это реально серьёзная подготовка. Если раньше можно было надеяться на то, что ты, сидя дома, порешаешь задачи по задачникам и осилишь региональный и заключительный этапы, то сейчас этой возможности попросту нет. Нужна системная и целенаправленная работа.
— Ольга Викторовна, поделитесь, пожалуйста, своим видением развития олимпиадного движения школьников?
— На мой взгляд, сейчас есть реально большая проблема, связанная с тем, что Всероссийская олимпиада школьников — это соревнования для профессионально подготовленных спортсменов. А есть ведь огромный слой детей, которые профессионально не готовы ни к региональному, ни к заключительному этапам. На мой взгляд, сейчас назрел вопрос о создании двухуровневой системы олимпиадного движения: одна — это реально Всероссийская олимпиада школьников для профи, «супер-звёзд», а вторая олимпиада нужна для тех, кто не учится в специализированных школах, кого профессионально не готовят к олимпиадам. Но этих ребят нельзя игнорировать, хотя бы потому, что их много и они тоже имеют право быть мотивированными на личностный и профессиональный рост.
— До регионального и заключительного этапа ВсОШ доходят только ученики 9, 10, 11 классов. То есть у 7 и 8 классов нет возможности поучаствовать в этих этапах. Центральная предметно-методическая комиссия по физике создала аналог Всероссийской олимпиады школьников по физике и назвала это Всероссийской олимпиадой школьников по физике для учащихся 7−8 классов имени Джеймса Клерка Максвелла. Это привело к тому, что уровень участников заключительного этапа ВсОШ по физике сильно возрос. Сегодня заключительные этапы — это «вынос мозга», это реально серьёзная подготовка. Если раньше можно было надеяться на то, что ты, сидя дома, порешаешь задачи по задачникам и осилишь региональный и заключительный этапы, то сейчас этой возможности попросту нет. Нужна системная и целенаправленная работа.
— Ольга Викторовна, поделитесь, пожалуйста, своим видением развития олимпиадного движения школьников?
— На мой взгляд, сейчас есть реально большая проблема, связанная с тем, что Всероссийская олимпиада школьников — это соревнования для профессионально подготовленных спортсменов. А есть ведь огромный слой детей, которые профессионально не готовы ни к региональному, ни к заключительному этапам. На мой взгляд, сейчас назрел вопрос о создании двухуровневой системы олимпиадного движения: одна — это реально Всероссийская олимпиада школьников для профи, «супер-звёзд», а вторая олимпиада нужна для тех, кто не учится в специализированных школах, кого профессионально не готовят к олимпиадам. Но этих ребят нельзя игнорировать, хотя бы потому, что их много и они тоже имеют право быть мотивированными на личностный и профессиональный рост.
Авторы: Анжелика Кутырева, Елизавета Мочалова
Проект создан обучающимися
Фонда поддержки талантливых детей и молодёжи «Золотое сечение»
Фонда поддержки талантливых детей и молодёжи «Золотое сечение»